«Легенда сборной получил пожизненное за покупку поста тренера». Философия, футбол и жизнь Китая
Рассказывает востоковед и фанат китайского футбола из России.
Иван Зуенко больше 20 лет изучает Китай. Началось все с подростковых поездок из родного Владивостока в самый русский город Поднебесной – Харбин, где до сих пор сохранились православные церкви (и есть традиция крещенских купаний), а службу ведет китайский батюшка.
С 2000-го (поступив на факультет Китаеведения) Зуенко окончательно погрузился в новую культуру: выучил язык, ездил на стажировки по всему Китаю, полюбил местный футбол и написал более 50 научных трудов. Сейчас Иван кандидат наук и преподает в МГИМО на кафедре востоковедения. А еще ведет телеграм-канал о китайском футболе – подписывайтесь!

Мы поговорили не только о футболе, но и философии и жизни Китая. Главное:
● Как живет Харбин – удивительный город, построенный русскими иммигрантами
● Почему Слуцкого называют «волосатиком», а у его «Шэньхуа» отняли титул 21 год назад
● За что легенда сборной Китая получил пожизненное
● Как необычно китайцы воспринимают футбольное дерби
● Какие мифы о стране – правда: казнь за коррупцию, социальный рейтинг, ужасающий смог
● Что из себя представляет цензура в Китае
● Философия страны через отношение местных к старости, алкоголю и приметам
Скоро – ко всем этим историям, а пока анонс: смотрим матч «Шанхая» Слуцкого, в 15:00 мск они играют с «Наньтун Чжиюнь». Иван Зуенко комментирует игру вместе с Вадимом Лукомским и Артемом Терентьевым. Приходите за увлекательными историями о Китае и китайском футболе!
Как я полюбил Китай: православная церковь в трущобах (рядом похоронен генерал Каппель) и походы на китайский «Спартак»

– Футбол в моей жизни появился гораздо раньше, чем увлечение Китаем, – рассказывает Зуенко Спортсу. – Я родился и вырос во Владивостоке, учился и работал там до недавнего времени – только два года как переехал в Москву.
Дедушка начал водить еще совсем маленьким на игры чемпионата СССР – пару последних сезонов. В юности гонял на выезды за «Луч» во Второй и Первой лиге. Застал расцвет команды, когда мы два матча подряд громили ЦСКА (4:0) и «Локомотив» (3:0) в РПЛ-2007.
Самый запоминающийся выезд – в Калининград в 2011-м. Самый дальний, какой только можно в национальном чемпионате. Кстати, несколько лет спустя другие ребята из Владивостока совершили выезд-кругосветку: поехали в Калининград не на запад, а на восток. На самолете пересекли Тихий океан, потом на машинах – всю Америку, а дальше перелет через Атлантику – и после футбола домой.
Вообще во Владивостоке фанатское движение очень крутое: выезд – это всегда путешествие (учитывая расстояния). Люди уходили в отпуск, чтобы поехать на футбол. Неделя в пути никого не смущала. Наоборот, воспринималось как приключение.
– Как во Владивостоке проявляется близость Азии?
– Много японских машин. Азиатские продукты – не экзотика, а обыденность. У меня в холодильнике всегда кимчи и тофу, например. Рис покупал именно китайский – он совсем другой. Чай – только зеленый.
Для нас, дальневосточников, необычнее, скорее, ресторан белорусской кухни.
Мы с детства привыкли, что Азия вокруг: в 90-е закупались только на рынке у китайцев, за вещами ездили в ближайшие пограничные города Китая. В детстве на улицах продавали не беляши, а пян-се (это такой корейский паровой пирожок). В магазинах было много азиатских продуктов – например, знаменитая содовая из сухого молока Milkis. До сих пор считается, что главный владивостокский фастфуд – это пян-се с «Милкисом».

– Много китайцев живет в городе?
– Больше всего было как раз в 90-е. Тут чисто экономический момент: тогда Россия все равно была богаче, чем Китай, поэтому им было выгодно приезжать сюда и получать немалые деньги. Но постепенно уровень развития сравнялся – сейчас китаец не заработает в России сколько, сколько мог бы заработать дома.
То же касается и китайских предприятий, фермеров. Их становится все меньше. Во-первых, власти осторожно относятся к экономической экспансии Китая. Не препятствуют, но серьезно контролируют. Во-вторых, Дальний Восток достаточно небольшой регион в плане населения [7,9 млн человек на 2024 год] – китайские компании просто не найдут сбыт для своих товаров.

– В какой момент вы увлеклись Китаем?
– Когда заканчивал школу, возник вопрос: куда поступать? Факультет китаеведения был среди приоритетных вариантов. С большими традициями: с конца XIX века здесь изучали китайский язык, а китаеведное образование во Владивостоке появилось раньше, чем в Москве. Многие важные люди для города там учились. Например, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.
Во Владивостоке так сложилось, что творческая и интеллектуальная элита – это либо «восточники», либо специалисты по морю: океанологи или морские биологи. У меня отец как раз океанолог, а я выбрал первое. Уже поступив, увлекся Китаем по-настоящему.
И это тот случай, когда полученная специальность действительно меняет всего тебя. Китай – огромный мир. Никогда не будет ощущения, что все знаешь, во всем разобрался и все изучил. Кажется, ты только в начале большого путешествия. Хотя я больше 20 лет этому посвятил.
Плюс китаисты – особая «каста». Они много времени проводят внутри своей тусовки. Большая часть друзей – мои коллеги. Жена – тоже китаистка.
– Расскажите про первую поездку в Китай.
– Это был 1997-й – за несколько лет до поступления в университет. Просто туристическая поездка с семьей в ближайший крупный город – Харбин.
Тогда это был совсем другой Китай: все передвигались на велосипедах, носили одинаковую одежду (рабочие робы), на улицах повсюду продавали значки с изображением Мао Цзэдуна (коммунистический революционер, основатель Китайской народной Республики – Sports).
Очень бедный Китай, очень патриархальный. Прямо на улицах города крестьяне продавали урожай, выщипывали кур, варили яйца в соевом соусе. Люди, которые не могли купить билет на ж/д вокзале, стелили картонки и спали у касс. Сейчас такого, конечно, уже почти не увидишь.
Эпоха до начала серьезных экономических успехов.
Плюс теперь совсем другая атмосфера на улицах – все идут, уткнувшись в телефоны. В метро, поездах. Никто ни с кем не общается. Раньше было иначе – всплывает такая картинка: мужчина подходит к незнакомой компании, вытащил пачку сигарет, всем раздал по одной. Курят, что-то обсуждают. Будто в советских фильмах 50-х. Условно как «Девчатах». Чувствовалось, что Китай пронизан социальными связями.
– В последующие поездки какой город поразил больше остальных?
– Мой любимый город по-прежнему Харбин. Не потому, что первым его посетил. Позже бывал там чаще всего и открыл совершенно потрясающие места, связанные с русской эмиграцией.
Исторические и намоленные церкви – возле одной, например, был похоронен генерал Каппель. В центре города сохранен архитектурный стиль, заложенный русскими. Позже к нему добавилась стилизация «под европейский стиль» от китайцев, которые в нулевые почувствовали, что это может стать туристической фишкой.

Местные не отрицают, что Харбин построен русскими во время строительства Китайской Восточной железной дороги. Коренные жители даже гордятся определенными особенностями быта и жизни, которые достались им от русских: например, есть традиция купаться на крещение, чего, естественно, нет в других городах.
Остались местные товары, которые изначально были привезены из России. Напиток гэвасы – наш квас. Его тоже не встретите нигде, кроме Харбина. Еще хлеб, колбаса, но они по вкусу уже очень сильно отличаются от того, к чему мы привыкли.
До того, как Харбин ради привлечения туристов привели в порядок, он вообще производил непередаваемое впечатление: продираешься через какие-то трущобы, китайские дворы – и вдруг натыкаешься на заброшенную русскую православную церковь. До мурашек.
– Православные храмы в Харбине туристические или там есть прихожане?
– Кроме одного, все туристические, Это архитектурные символы города. Действует Покровский храм – там принимает православный батюшка: китаец, который отучился в России. Туда ходят либо экспаты, либо потомки первых жителей Харбина. Они выглядят как китайцы, но считают себя русскими.
Для них это признак преемственности и связи со своими предками.
Когда бывал в Харбине, старался ходить на все православные праздники в этот храм. Непередаваемо. Ты в другой стране, но попадаешь в место, которое, с одной стороны, хранит связь с твоей страной – Россий, а с другой – все другое. Китайский батюшка, китайцы-прихожане, растяжка с цитатами из Си Цзиньпина на входе. При этом некоторые приходят в старой одежде, которая им досталась от предков, крестятся, причащаются.
– Насколько сложно учить китайский?
– На самом деле русский – еще сложнее. Понятно, что я носитель языка, не задумываюсь о склонениях, спряжениях, но фактически ты должен каждое слово менять в зависимости от предыдущего. Не представляю, как это вообще можно выучить.
Искренне преклоняюсь перед людьми, которые учат русский как иностранный. И не просто на уровне «твоя моя понимать», а грамотно склоняют слова.
В китайском, например, очень простая грамматика. Да, есть трудности с иероглифами и восприятием на слух (разные интонация и контекст меняет смысл одного и того же слова). Но китайский – изолирующий язык, форма слова вообще не меняется. Это кубики, которые расставляешь в разных сочетаниях.
Но сказать, что я в совершенстве владею китайским, нельзя. Так никто не может сказать. Это не сравнить с западными языками. Одно время изучал португальский – два-три раза в неделю по часу, не особо заморачиваясь. За год уже мог спокойно решать бытовые вопросы.
Китайский требует более глубокого погружения. Плюс есть различные диалекты. Например, кантонский отличается от пекинского настолько, что это просто два разных языка.
– В какой момент вы стали плотно следить за китайским футболом?
– Изначально смотрел на него больше со страноведческой точки зрения. Клубные традиции, история команд, сюжеты, которые позволяют лучше узнать страну. Например, раньше Северо-восточный Китай, который граничит с Россией, считался самым футбольным регионом. Теперь – перестал. В Суперлиге осталась только одна северо-восточная команда – «Чанчунь». Я это связываю с экономическим упадком региона.
Впервые на местный футбол попал в 2001-м, когда был на стажировке – на «Далянь Шидэ», который был абсолютным гегемоном. Как «Спартак» в России 90-х. И затянуло – интересно наблюдать, как у них развивается фанатское движение, какие футболисты появляются, как выступает сборная.

В Китае есть такое выражение: «Великие державы не играют в футбол». Имеется ввиду – США, Россия, Китай и Индия. Но при этом они очень радуются любым успехам. Когда сборная вышла на ЧМ-2002, в честь этого установили памятник – возле стадиона в Шэньяне, где игрался решающий матч. Одна из фигур на монументе – тогдашний тренер Бора Милутинович.
Представляете, насколько это важно для них?
– Как находите информацию и трансляции?
– Стало гораздо проще. Во-первых, на ютубе есть стримеры, которые показывают матчи. Вероятно, это связано с букмекерами, потому что в чате люди со всего мира – и такие реплики: «Хоть бы было 15 угловых». Их банят, но появляются другие.
Во-вторых, телеканал «Футбол» с прошлого года показывает некоторые матчи. Плюс теперь – Sports.
У каждого клуба есть аккаунт в Weibo (это китайская соцсеть), где есть вся информация. Довольно активно ведут и инстаграм. Материалов масса. Да, большая часть на китайском, но для меня это не проблема.
Погружение в китайский футбол: легенда сборной получил пожизненное, Слуцкого называют «волосатиком», «Шэньхуа» лишали титула за договорняки

– Слуцкого и его штаб в комментариях под китайскими статьями называют «волосатики». Что это значит?
– Звучит это так: «Лао-маоцзы». Слегка пренебрежительное выражение для обозначения русских. Но я бы его не демонизировал, китайцы всех иностранцев называют какими-нибудь подобными словами. У них так принято. Причем, посыл может быть позитивным. Про штаб Слуцкого, например, писали: «А эти волосатики могли бы вывести нас на ЧМ-2026!»
Откуда взялось про «волосатиков»? Есть две версии, в общем-то похожих. Первая: русских так называли с XIX века, потому что они часто носили бороду. У китайцев бороды не очень растут. А вторая версия: потому что у русских более волосатое тело. Я вот в Китае часто хожу в бани – так вообще не видел волосатых китайцев.
Повторюсь, это точно не из желания обидеть. Для них это просторечное обозначение русского.
– Как назначения Слуцкого восприняли в Китае?
– Восторгов не было. Было такое: «Поживем-увидим». Тренеры в Китае меняются очень часто, болельщики к этому привыкли. Поэтому не фокусируются на личности наставника. Плюс Слуцкий сменил очень успешного тренера У Цзиньгуя, благодаря которому «Шэньхуа» выиграл Кубок Китая и попал в Азиатскую ЛЧ.
После пяти побед в шести матчах (плюс завоевания Суперкубка), конечно, все хвалят, но обратная серия все может поменять.
Кстати, запомнился один забавный момент, который удивил до глубины души. Когда в группе «Шэньхуа» выкладывали фотки со сборов, на одной из них был Василий Березуцкий. И какой-то чувак написал в комментариях: «О, Игнашевич. Крутой!». Посмешило, конечно, а с другой стороны подумал: «Нифига себе, на ассоциативном уровне он ведь правильно попал. Знают про тот ЦСКА в Китае».
– В Китае вышла большая статья про Слуцкого – начиная с истории, как он спасал кошку в Волгограде. В комментариях тот случай очень впечатлил китайцев. Почему?
– Может быть, потому что символ «Шэньхуа» – леопард. Плюс китайцы любят такие истории.
Вообще есть чувство, что Слуцкий со своей медийностью, харизмой, определенным очарованием должен зайти китайцам. Например, песня, которую они исполняли в честь Нового года – «Вдруг как в сказке…» – очень понравилась болельщикам. Для них это прям неожиданно и прикольно.
Все-таки в Китае фигура тренера и наставника – чуть иначе воспринимается. На них смотрят снизу вверх. А Слуцкий эту дистанцию чуть сокращает.

– «Шэньхуа» 14 лет не попадал в топ-3 Суперлиги, в прошлом году был пятым. Что это за клуб?
– Это старейшая и самая популярная команда Шанхая. Как профессиональный клуб существует 30 лет – в декабре прошлого года юбилей праздновали. Но вообще история восходит к любительской сборной Шанхая, которая в допрофессиональную эпоху представляла город.
Когда в китайский футбол пришли большие деньги, это стало периодом разочарований. «Шэньхуа» не угадал с трансферами (например, Тевеса) и ничего не добился. Последние годы команда на спаде. Но есть финансирование от крупной местной госкомпании, есть традиции, большой стадион (72 тысячи) не пустует.
«Шэньхуа» дважды выигрывал Суперлигу, но последний титул, 2003 года, забрали за договорные матчи. Причем, спустя десять лет – так что клуб успел поиграть с двумя звездочками над эмблемой. Это был серьезный скандал, но «Шэньхуа» не выгнали из Суперлиги, просто лишили золота.
Вообще вся история китайского футбола – история коррупционных скандалов. Прямо сейчас уволили все руководство Федерации футбола, а главного тренера сборной Ли Те посадили в тюрьму, пожизненный срок. За то, что дал взятку ради должности, ставил игроков в состав за деньги, организовывал договорняки, когда был клубным тренером.
Важно сказать: Ли Те – это культовый китайский футболист. Человек в «Эвертоне» играл, больше 90 матчей за сборную Китая, был на ЧМ-2002. Потом – достаточно успешным тренером.
– По сути, игрока и тренера уровня Карпина (для китайского футбола) посадили в тюрьму на пожизненное.
– Да, так и есть. Но в Китае к такому привыкли: истории со снятием очков, банов футболистам, тренерам стала обыденностью. Поэтому реакция была: «Ну и ладно».
Тем более сборная при Ли Те играла плохо. Повесили всех собак на него. В начале года вышла передача по Центральному телевидению, где он признался и рассказал, как все проворачивал.

– Как клуб поменялся при Слуцком?
– В прошлом сезоне у команды был неинтересный футбол: ставка на борьбу, контратаки, много побед 1:0. При Слуцком «Шэньхуа» сильно прибавил, становится менее китайской командой, более организованной. Хорошо прессингует и выходит из обороны в атаку. Обычно в Китае либо заброс вперед, либо отдай мяч лидеру, он придумает. А тут все гораздо более современно.
Плюс Слуцкий сделал несколько неочевидных решений, потому что у него свежий взгляд. Поменял вратаря – вместо Ма Чжэня поставил Бао Ясюна. В первых турах не ставил основную пару центральных защитников (игроков сборной, между прочим) – Цзян Шэнлуна и Чжу Чэньцзе. Наигрывал молодежь, которая в том году вообще не играла.
Новичок Сэ Пэнфэй (тоже игрок сборной Китая) в «Ухане» исполнял чистого крайка – дошел до лицевой, навесил. Слуцкий его ставил то в нападение (получалось довольно интересно), то в центр поля (и он сделал две голевые).
Будь на месте Слуцкого тренер, хорошо знакомый с китайским футболом, наверняка находился бы в плену стереотипов. Леонид Викторович делает по-своему.
– Шанхай. Что это за город?
– Главный город Китая. Не столица, но самый богатый, самый развитый, наиболее интегрированный в глобальный мир.

Но при всей этой современности метро Шанхая заканчивает работать в 22:30. То есть когда «Шанхай Порт» играет на домашнем стадионе (а он далеко от центра находится), и матч поздний, то на метро уже не вернешься. Для современного мегаполиса это удивительно, но таков Китай.
Там свои правила, и ты должен не забывать, где находишься.
Жизнь в Шанхае – очень дорогая. Образование в международной школе, например, стоит 300 тысячи юаней. Порядка 3 млн рублей в год. Очень дорогое медицинское обслуживание, если мы говорим не про китайские поликлиники, а хорошие медцентры. Экономить можно на еде, на продуктах. На улице питаться вообще дешево. При этом бизнес-ланч – около 1000-1500 рублей, чек в хороших ресторанах – 5-6 тысяч.
Особенности фан-культуры Китая, банкротство гегемонов и почему власти отказались от денежных вливаний в футбол
– Как «Шэньхуа» может быть старейшим клубом Шанхая, если ему 30 лет?
– Это особенность китайского футбола. Из первого состава Суперлиги (а это 2004 год) осталось только четыре команды – пекинский «Гоань», «Шанхай Шэньхуа», «Шаньдун Тайшань» и «Тяньцзинь».
Почему так происходит? До последнего времени в Китае была безумная текучка: клубы постоянно переезжали, меняли названия, банкротились. Если спонсор вложил кучу денег, а команда вылетела, владельцы быстро теряли интерес. Делали новый клуб.

Представьте: два из трех самых титулованных клубов в истории китайского футбола уже не существуют. «Далянь Шидэ», доминирующий в 90-х, и «Ляонин», который в 1990 году выиграл азиатскую Лигу чемпионов – обанкрочены. Третий клуб – «Гуанчжоу», который cамый титулованный в истории Суперлиги, – чудом спасли. Он должен был тоже пропасть (из-за банкротства спонсора), но волевым решением властей сохранен.
Играет в Первой лиге Китая – одной молодежью, амбиций никаких.
– В Китае есть аналог Fan ID?
– Нет, но покупка билетов привязывается к паспорту или другому удостоверению личности. Причем, для иностранцев система чуть сложнее: нужно искать специальный сервис, не для китайцев.
– Чем фанатская культура отличается от российской?
– Совершенно другое отношение к дерби: у них это наоборот братская история. Недавно было «дерби Циндао»: казалось, команды из одного города, два разных берега залива, но никакого напряжения – баннеры про дружбу, фанаты все в обнимку. Типа мы земляки, это круто.
В Китае очень любят, чтобы трибуна была одноцветной. Даже на выездных матчах. Причем, если основная форма – красная, а команда играет в запасном комплекте – желтом, то фанаты могут договориться и все надеть желтый.

У нас стереотипный фанат – крепкий парень, в Китае – это очень разные люди. Какие-то «ботаники», очень много девушек, дедушки, бабушки. И болеют активно – всегда есть флаги, баннеры (очень креативные). Люблю рассматривать фотки с трибун, всегда много смыслов, игры слов, отсылок к древней истории Китая.
Но важно уточнить: фанаты (особенно на начальном этапе) контролируются клубами. Например, недавно одна команда переехала из Чэнду в Шэньчжэнь (поменяв цвета, эмблему и вообще всю айдентику) – и на первом же матче сектор был забит людьми в новых цветах, с флагами, баннерами. Конечно, это искусственная история, но со временем левые уйдут, останутся только те, кому действительно интересно.
– Экс-защитник «Локо» Неманья Пейчинович рассказывал о китайском футболе: его с подозрением на «кресты» отправили на МРТ в обычную клинику, и он сидел в очереди. Потом ему предложили отказаться от операции – лечиться иглоукалыванием. Это обычная история для Китая?
– Условия в разных клубах сильно разнятся. «Чанчунь», где играл Пейчинович, это команда попроще, не элита. Достаточно посмотреть ТВ-картину с их последнего домашнего матча против «Шэньхуа»: выглядит как наша Первая лига 90-х годов – желтое весеннее поле, старый стадиончик. Мне это напомнило выезд в условную Читу за «Луч».
В клубах «Гоань», «Шанхай Порт» условия намного лучше. Но, в целом, развитие китайского футбола – неравномерное. Несколько лет назад клубы могли приглашать игроков уровня Тевеса и Халка, платить им огромные деньги, но при этом не могли сделать нормальную инфраструктуру.
Есть видео, как Слуцкий, Березуцкий и Яровинский знакомятся с базой «Шэньхуа»: им показывают их комнатки, а там уровень – натуральная общага. У Василия прям по лицу было видно: «**** [Блин], куда я попал?». Тевес (тоже игравший в «Шеньхуа» – еще на старом, допотопном стадионе) в бешенстве был, разругался со всеми. Сказал, что китайскому футболу нужно лет 50, чтобы догнать европейский. Думаю, он это и имел ввиду: недостаточно платить десятки миллионов за трансферы, ничего больше не делая.
Сейчас китайцы к этому и пришли. Ввели потолок зарплат (не выше 3 млн евро в год для иностранцев и 625 тысяч евро для местных – Sports), стали бороться с перегревом трансферного рынка. Развитие выглядит более планомерно.
Из звезд, которые приехали на огромные зарплаты с 2016-го, остался один Оскар – в «Шанхай Порт». Клуб пытался с ним договориться о снижении зарплаты (24 млн евро), но тот отказался. Сказал: «Буду дорабатывать контракт». Он, конечно, принес два чемпионства, но отношение к нему – сложное. Ждали большего. Плюс Оскар периодически может пропасть – без какой-либо информации от клуба. Просто нет в заявке, и никто не знает, что случилось.

– Почему Китай перестал вкладывать бешеные деньги в трансферы звезд?
– Для начала: зачем вообще это делалось? Не ради клубов, а ради сборной. Это политическое решение, которое связывают напрямую с Си Цзиньпином (он очень любит футбол). Посчитали так: нужно сделать сильную лигу, а китайцы, играя со звездами, будут прогрессировать. Плюс к этому добавится натурализация и мощный иностранный тренер (Марчелло Липпи).
Решили просто закидать бабками. Очень по-китайски.
Но вышло ровно наоборот: появление сильных легионеров привело к деградации футбола. Матчи строились по принципу – отдай мяч Халку или другой звезде, а он все сделает. В сборной никто не мог взять на себя бремя лидерства, последовали провалы на Кубке Азии, в отборах на ЧМ, сумасшедшие убытки у клубов.
В период пандемии было принято несколько очень жестких решений по охлаждению перегрева китайского футбола. С отъездом звезд уровень понизился, конечно, но сам чемпионат стал более нормальным и интересным. К тому же подоспели и новые стадионы, которые готовились к Кубку Азии-2022 (от которого Китая по итогу отказался, и турнир перенесли в Катар). ТВ-картинка стала заметно лучше.
По сути, они отказались от амбиций [к 2050-му стать одной из лучших сборных мира], но официально это никак не артикулируется.
Разоблачаем мифы Китая: разрешено ли насилие над молодыми? За взятки чиновников расстреливают? Из-за смога нельзя бегать без маски?

– Есть стереотип, что в Китае разрешено физическое насилие над молодыми в клубах и школах. Это правда?
– Думаю, да. Вряд ли это выглядит как дедовщина в армии, но к образу наставника и учителя действительно другое отношение. Им позволяется практически все. Если учитель посчитает отвесить тумак или подзатыльник, это в порядке вещей.
Понятно, что ситуация меняется. В международной школе в Шанхае такое сложно представить. Ты платишь миллионы рублей на учебу, а твоего ребенка еще и бить будут?
Но это и вопрос восприятия. Я вот хожу в бассейн в Москве, рядом занимается группа девочек-синхронисток. И тренер на них прям орет, зато есть результат. Для нас это норма, а где-нибудь во Франции подобное будет выглядеть дико.
– Далее – коррупция. В 2009-м в «Российской газете» была новость, что за девять лет в Китае расстреляли более 10 тысяч чиновников за взятки.
– Я бы с осторожность относился к этой информации. С коррупцией действительно борются очень строго – особенно последние 10 лет при Си Цзиньпине. До его прихода проблема принимала гротескные формы, поэтому он выдвинул лозунг: «Бить мух и тигров». То есть жестко наказывать и за мелкие нарушения, и за крупные.
Но в большинстве случаев за экономические преступления не предполагается смертная казнь. Даже если очень серьезное дело, то чаще это, так называемая, смертная казнь с отсрочкой. Как она выглядит: человек сидит в тюрьме год, и если за это время не совершает преступления (повторюсь, сидя в тюрьме), то наказание меняется на пожизненное заключение.
То, что за любую взятку в Китае расстреливают, точно миф. История из 80-х.
Но суды над высокопоставленными чиновниками – не редкость, да. Если человек оказался в опале, то у него все найдут: и взятки, и злоупотребление обязанностями, и содержание подпольного гарема какого-нибудь. В 2013-м Бо Силай – на тот момент главный конкурент Си Цзиньпина – получил пожизненный срок за взятки. В 2015-м министр Чжоу Юнкан – за экономические преступления и аморальное поведение, как раз те самые гаремы со стюардессами и медсестрами.

– У Китая по-прежнему демографические проблемы? Сохраняется ли правило «одна семья – один ребенок»?
– Его отменили. Сейчас можно заводить не более трех детей. Но и такого в Китае почти нигде нет – в городах индекс репродуктивности меньше единицы. То есть одна женщина в среднем рожает меньше одного ребенка. В 2022-2023-м население два года подряд сокращается. И это очень большая проблема для Китая: к 2050-му – прогнозируется 500 млн человек возраста 60+, в 2080 – пенсионеров будет уже больше, чем работающих.
Такая постиндустриальная история: люди мыслят другими категориями – стремятся к самореализации, а детей заводить некогда и дорого. И ситуация не изменится, что бы правительство Китая не делало.
– Социальный рейтинг: как он выглядит на самом деле?
– В отдельных городах запускался экспериментальный вариант, но, как я понял, его признали неудачным.
Нужны огромные вычислительные мощности, чтобы всю эту историю поддерживать. Возникали пересуды – и за рубежом, и внутри общества: мол, устраиваете тут какой-то цифровой концлагерь. Риски и проблемы перевешивали плюсы.
Вообще это китайская особенность: запускается масштабная программа, о ней активно говорят, но если что-то идет не так, итогов не подводят. Никто никогда не скажет, что идея провалилась. Просто она уходит как вода в песок.
В отдельно взятых компаниях такой рейтинг есть: условно, записался к врачу, но не пришел, в следующий раз тебе могут не позволить записаться онлайн. Но это мало чем отличается от того, что, например, делает «Аэрофлот» с бонусными милями.
– Следующий миф: в китайских городах ужасный воздух – без масок жить невозможно, а на билбордах рекламируют дыхательные средства для бега в смог.
– 10 лет назад ситуация была пугающей: в крупных городах не было солнца, всегда смог, дышать тяжело. Но Китай серьезно занимается проблемой, есть позитивная динамика. Раньше в том же Пекине по пальцам руки можно было пересчитать солнечные дни, теперь – наоборот.
Но остаются небольшие города, в которых расположены вредные производства. Там, конечно, дичь: люди бегают в масках, ты выходишь на улицу и не можешь сделать глубокий вдох. У меня такое было в Шэньяне, например.

– Китайская еда: блюда из мышей, тараканов, змей. Причем, такое якобы продается на рынках.
– Китай огромный – и вкусовые традиции очень разные. Общее правило такое: чем дальше на север, тем еда более привычная нам (лапша, рис, куски мяса); чем дальше на юг, тем больший (на наш взгляд) изврат. Кузнечики, непонятные кишочки, какой-нибудь желудок утки, вот это все.
Китай был достаточно бедной страной, поэтому еды всегда не хватало. Люди научились есть все. Но сейчас рынки с такими блюдами – больше туристический аттракцион для людей с севера. А местные воспринимают как деликатес. Приписывают им различные чудотворные свойства (чаще в качестве улучшения потенции для мужчин), продают за большие деньги.
Такого, что мышь пробежала, ее поймали и слопали, конечно, нет.
Цензура в Китае: ИИ за секунды сканирует инфополе, каждое действие в интернете (даже чат в месседжере) – открытая книга для государства
– Цензура в Китае. Так ли она страшна?
– Она, безусловно, есть, но не нужно ее демонизировать. В значительной степени это самоцензура, которая в бытовой жизни никак не мешает.
Спокойно можешь ее обойти (за счет VPN), учишься читать между строк, выражать свои мысли иначе, но не сказал бы, что ограничения принципиально отличаются от российской цензуры.
Да, в последнее время контроль стал жестче. Список заблокированных ресурсов значительно больше, чем в России. В Китае нет прямого эфира как такового, все идет с задержкой, даже эфиры обычных блогеров. Чтобы система успела проверить содержимое, отфильтровать – и при необходимости заблокировать.

– Контроль над эфирами осуществляет искусственный интеллект?
– Да, но его надо постоянно обучать. Есть специальные «фабрики цензуры», там работают люди, которые вводят в систему новые стоп-листы: сочетания слов, жестов, в которых человеческий разум видит крамолу.
Эта предпрослушка осуществляется за секунды. Максимально оперативно.
Государство полностью контролирует интернет. Все, что ты делаешь в WeChat (главный китайский месседжер, в котором есть возможность установка приложений на все случаи жизни), – открытая книга для властей. Кому ты писал, что писал, чем интересовался, куда ходил.
Но поймите правильно: большинству людей от этого ни горячо, ни холодно, Большинство – обыватели, которые ничего такого в политическом плане и не делают. Им пофиг на такой контроль.
Вообще это мало отличается от того, как настроены алгоритмы Google и современных смартфонов. Вот мы сейчас вслух обсудим какой-нибудь товар, а через день он появится в контекстной рекламе. То же самое.
– Если человек в личке WeChat напишет другу, что ему не нравится Си Цзиньпин, что будет?
– Мы можем предположить, что система пометит человека, он попадет в определенный список политически неблагонадежных. Но это не значит, что тут же в дверях появится полицейский.
Если потом этот человек начнет агитировать других, обсуждать какие-то лозунги, за ним начнут присматривать.
– Допустима ли в китайских медиа дебатирующая риторика?
– Нет. Это вообще не в китайской культуре. Приезжаешь на конференцию, тебе вопросов после доклада никто не задаст. А если и поспорят, то очень мягко: «То, что вы сказали, очень правильно. Но вот есть другая точка зрения».
Китайцы как нация не любят дебаты, споры, конфликты. Поэтому во всех медиа есть одна линия – линия партии, государства.

– Критику в адрес Си Цзиньпина не найти даже на совсем нишевых каналах?
– Это просто невозможно. Даже при его предшественнике Ху Цзиньтао (который был достаточно слабым лидером и к которому было много вопросов). Лидер всегда прав.
У китайцев нет такой рефлексии: «Высказать что-то против или нет? Ах, черт, ладно, сейчас лучше не надо». Даже мысли не возникает публично критиковать действующего руководителя.
При этом в Китае все умеют обходить цензуру, найти информацию по чувствительным темам – по так называемым «трем Т» (Тяньаньмэнь, Тайвань, Тибет), но большинству это просто не надо.
Нет такого, что китайцы не в курсе, что было на площади Тяньаньмэнь в 1989-м (подавление выступлений студентов с использованием оружия – число пострадавших варьируется от сотен до нескольких тысяч – Sports). Или, думаете, они не знают, что Тайвань – де-факто независимое государство? Конечно, знают.
Но они даже не воспринимают это так, что государство скрывает информацию. Просто есть официальная позиция, и ей надо соответствовать.
– В 2021-м заметная китайская теннисистка Пэн Шуай сообщила о сексуальном насилии со стороны вице-премьера Китая – и пропала из публичного поля. Часто такое происходит?
– Да, есть такая особенность. В Китае люди могут в какой-то момент исчезнуть – иногда навсегда.
Из недавнего: пропал министр иностранных дел Цинь Ган. Сначала перестал появляться на публике, в июле его сняли с должности, а осенью ему предъявили обвинения в коррупции. И до сих пор его никто не видел, хотя идет следствие.
Слухи разные ходят, но официальных подтверждений нет. Как минимум, он в заключении. Такая же история – с министром обороны Ли Шанфу.
Я это называю «культурой отмены с китайской спецификой». Условно, у нас Киркоров «вошел не в ту дверь», его начали порицать. А в Китае человек просто исчезает.

– Насколько Китай культурно изолирован: смотрят ли там зарубежное кино, слушают ли иностранную музыку?
– Все доступно (иногда в цензурированном виде, без вырезанных сцен), но чаще самим китайцам зарубежное искусство не так интересно. Не соответствует их вкусам и желаниям. У Китая своя огромная поп-культура, в основном она и востребована.
Такого, как в КНДР, нет. Хотя, важно отметить, что и стереотипы о КНДР – во многом стереотипы.
– Востребована ли в Китае российская культура? Фильм «Движение вверх» стал успешен в китайском прокате.
– Для Китая советское кино было в каком-то смысле образцом искусства. До сих пор его влияние ощущается. Например, Си Цзиньпин как-то в интервью неожиданно и сходу назвал 11 русских писателей, которых он особенно любит. Одиннадцать! Уверен, русский человек не назовет столько же китайский деятелей.
Причем, Си Цзиньпин особенно выделил Николая Чернышевского и его роман «Что делать?», а многие его сверстники часто называют любимой книгой «Как закалялась сталь» Николая Островского или роман «Чего же ты хочешь?» Всеволода Кочетова. В современной России эти авторы подзабыты, но в Китае русская культура считается великой, ее уважают.
Не могу сказать, что сейчас российские фильмы пользуются особым вниманием, но иногда оказываются очень успешны в прокате. Кроме «Движения вверх», собрал неплохую кассу «Сталинград», выстрелил «Он – дракон» (озвучивались планы по китайскому сиквелу – Sports).
Новой моды на Россию нет, как это происходит с Кореей сейчас. Но спроси обычного китайца про русскую культуру, тебе ответят, что она очень крутая.

– Как Китай пережил крах коммунистических идей в мире?
– Когда развалился СССР, для них это был шок. Такого никто не ожидал. В Китае считали, что будет очень тяжело оставаться единственной крупной страной с социалистической идеологией.
Но они пережили и справились. Да, сейчас Китай – это симбиоз социалистических и капиталистических идей. Рыночная экономика существует, есть эксплуатация человека человеком, но приоритет все же отдается социальноориентированной политике. Частному капиталу не дают доминировать, стараются больше внимания уделять здравоохранению, медицине, образованию, пенсионной системе, потому что в период быстрых рыночных реформ немного запустили эти сферы.
У меня в детстве, как у многих после развала в СССР, отношение к социалистической идеологии было как к чему-то устаревшему, что рано или поздно отомрет. Но Китай показывает, что от такого мышления надо избавляться.
– Изучают ли в университетах и школах научные труды Си Цзиньпина?
– Про школу не скажу, но в ВУЗах точно изучают. Индоктринация в последние годы заметно усилилась. Книги лидера партии издаются огромными тиражами, на улицах висят растяжки с его цитатами.

– Как среднестатистический китаец относится к современной России?
– Как к огромной стране и важному игроку в мировой политике. Мы иногда воспринимаем себя сквозь призму чрезмерной скромности, принижаем свое значение, но это вовсе не так. Россия – великая страна, которая сыграла огромную роль в новой истории Китая. Попросту у нас одна из самых протяженных границ в мире, давняя история взаимоотношений.
Сложно под одну гребенку собрать различные образы из разных групп населения, но в целом отношение к России – позитивное. Достаточно велик авторитет Путина. Это главный бренд России в современном Китае.
Есть большой интерес к тому, что происходит на Украине. Когда это началось, то конфликт стал главной новостью – и на ТВ, и в интернете. То есть в восприятии Китая это точно не локальная история. Многие желают России успехов, чтобы у нас все закончилось хорошо.
Философия Китая – через отношение к старости, алкоголю, браку и приметам

– В чем выражается китайский менталитет?
– Китайцы умеют радоваться жизни такой, какой она есть, ценят возможности, которые имеют.
Выйди рано утром в любой парк, а там десятки пенсионеров занимается физкультурой и дыхательной гимнастикой. А по вечерам – ходят туда на танцы. Они не считают, что со старостью смыслы заканчиваются, видят в этом шанс для другой жизни.
Больше времени тратить на хобби, самореализацию, здоровье.
Надо понимать: нынешние китайские старики – это люди, прошедшие очень тяжелую жизнь. Культурная революция, голод, резкое развитие Китая, когда всем приходилось работать без выходных. Нам это сложно представить, но, по сути, китайцы отдыхают, дай бог, три недели в году: две из них государственные праздники, еще одна – отпуск.
Во многом из-за позитивного отношения к жизни китайцы дольше живут: принимают все, как есть, стараются не нервничать по пустякам, много времени проводят в парках, любуются пейзажами.
– Чем отличается их отношение к браку?
– Чуть большей патриархальностью: как мне рассказывали, когда знакомишься с родителями жены, тебя сразу спрашивают: «А какой у вас доход?». И очень важно получить благословение от старших.
Но в остальном – особых отличий нет.

– Что выделяет китайское кино?
– Более выразительная эстетика. Если в нашем кино достоинством считается реалистичное изображение, то в Китае зачастую наоборот создают намеренно нереалистичные образы.
Как пример: фильм «Красный гаолян» Чжана Имоу, с него в конце 1980-х началась так называемая «китайская волна», новая эпоха в кинематографе. Действие происходит во время войны с Японией – в деревне, в которой делают китайскую водку. И эта водка окрашена в ярко-красный цвет. Хотя на самом деле она такая же бесцветная, как и наша.
Весь фильм выдержан в таких тревожных цветах: красное поле гаоляна, море крови убитых крестьян, красные реки этой водки. Такие яркие цветовые решения.
– Как китайцы относятся к алкоголю?
– Позитивно. Воспринимают как один из способов поймать наслаждение от жизни. Раньше было нормально выпить бутылку пива в рабочий обед (у них тоже есть что-то вроде сиесты: поел в 12, спишь до 14).
Есть великий китайский поэт Ли Бо (для китайцев он как для нас Пушкин), который чуть ли не в каждом втором стихотворении писал о том, как он выпивает, и как ему после этого хорошо и возвышенно.
Плюс алкоголь считается важным социальным инструментом. Если собирается компания, обязательно выпивают. На переговорах лет 20 назад не выпить было практически невозможно. Заставляли. Сейчас все же можно отказаться.
Запойных алкоголиков там, наверное, меньше, но пьяные на улице попадаются.

– Сталкивались с китайской медициной?
– Это не столько медицина, сколько философия, связанная с устройством Вселенной. Идея о дуализме женского и мужского начала. Когда все болезни делятся на те, которые вызваны переизбытком одного из них.
Например, тебе говорят: «Ты болеешь из-за избытка в твоем организме женского начала, поешь острого, жирного, чтобы вернуть баланс».
Эти идеи мне интересны, в обычной жизни стараюсь их применять.
Если говорить про обычные поликлиники, они выглядят плюс-минус как и в России. Только заметно хуже. Яркое впечатление времен моего студенчества: там раньше в кабинетах дверей не было. Сидишь на приеме, люди заглядывают в проем, дают советы. Иностранец пришел, ну интересно же. Так лет 20 назад было.
– Отношение к иностранцам – какое оно?
– Оно меняется. Китайское общество последние 20 лет почувствовало свою силу, свои достижения – и переосмыслило положение в мире. Раньше китайцы немного стеснялись себя: что они бедные, неразвитые (как страна), смотрели на иностранцев снизу вверх. Сейчас наоборот считают, что это иностранцам есть чему поучиться у Китая.
Это сказывается даже на бытовых отношениях. Лет 20 назад китайцы старались не связываться с иностранцами в конфликтных ситуациях, а теперь наоборот, постараются высказать: «Ты не прав, ты в Китае, соблюдай наши правила».
– Какие бытовые детали вас удивляли? Читал, например, что зеленая шапка в Китае – признак того, что у мужика гулящая жена.
– Есть такое, да. На день Святого Патрика, когда ирландцы-экспаты собираются в барах, все в зеленом, китайцев это очень веселит. Но, конечно, никто подобное всерьез не воспринимает. Если наденешь зеленую шапку, все поймут, что ты просто над этим не заморачиваешься.
Многих иностранцев удивляет, как китайцы относятся к еде: рыгают, выплевывают, а могут даже снова положить ее в рот. К этому просто нужно привыкнуть, иначе совсем тяжело будет.
Раньше еще всюду курили. Даже поездах. Помню, еду на второй полке (там их три), а сверху пепел падает. Мужик прям в вагоне закурил. Говорю: «Ты чего делаешь?». А он даже не понимал, что не так.
Всегда раздражало то, как шумно в Китае. Едешь в автобусе 8 часов – и всю дорогу гремит китайский боевик по телевизору. Ночь, пассажиры спят, а водитель даже не думает выключать. Китайцы умеет ловить дзен – им шум вокруг будто бы и не мешает.

– С каких городов стоит открывать для себя современный Китай?
– Смотря, что хочется найти. Если киберпанк, неоновую рекламу, небоскребы и ощущение будто ты попал в будущее, то это Шанхай. А еще лучше город Чунцин.
Классическая культура – это Пекин с Великой стеной, храмами, площадями и парками. Или город Ханчжоу. Там есть и современные постройки, и классический ландшафт. Например, озеро Сиху в центре города, которое окружает традиционный китайский парк.
Интересное место – город Далянь, который, как и Харбин, основали русские, но потом им владели японцы. Поэтому там есть и наши кварталы, и японские. Рядом Порт-Артур, морское побережье.
Сямэнь – романтичный город, по духу эдакая «китайская Венеция». Тоже на берегу моря. Как и Циндао, где есть европейское влияние, вкусное пиво, морепродукты.
Китай безумно интересная и разная страна. Есть горы Тибета, есть степи Внутренней Монголии, есть бамбуковые леса Сычуаня – и многое чего еще. Страна, которую открывать для себя можно бесконечно.
***
Смотрим матч «Шанхая» Слуцкого вместе с Иваном Зуенко! Игру показывает Спортс, а Иван ее комментирует вместе с Вадимом Лукомским и Артемом Терентьевым.

Телеграм-канал Ивана Зуенко о китайском футболе
Телеграм-канал Артема Терентьева
Фото: Gettyimages.ru/Kevin Frayer, Neville Hopwood, Kevin Frayer, Di Yin, Kevin Frayer, Feng Li, China Photos








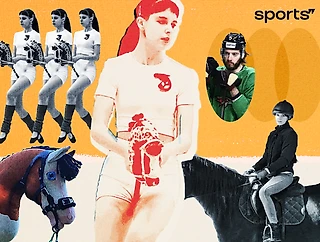



Но когда читал некоторые моменты, например про "культуру отмены с китайской спецификой", то поймал себя на мысли, что человек очень спокойно обычными словами рассказывает, на мой взгляд, про довольно страшные вещи.
Понял, что если бы он так же рассказывал про какие-то внутренние или внешние
процессы в России/связанные с Россией, то его бы уже назвали проплаченным и что он несет в массы пропаганду.
Хотелось бы чтобы весь спортс был таким, но увы, это не даст такого кликбейта, посещаемости и просмотров рекламы как заголовок о том, что Дзюба вставил себе имплатны.
Надеюсь жизнь занесёт на пару недель в Чжунгуа.
Спасибо!!!
А кто-то "исчезает", то значит ведется расследование серьезных преступлений, и "пропавший" сам не сильно хочет, чтоб его имя еще и полоскали в прессе
Например, так было с актрисой Фань Бинбин, которую поймали на неуплате налогам, но во многом благодаря тем, кто растрезвонил о "пропаже", ее репутация упала ниже плинтуса... Она жива-здорова, выплатила многомиллионные штрафы, но карьера фактически разрушена
Гугл подсовывает вам то, что укладывается в ваше мировоззрение, им же и отредактированное
Поэтому вы отрицаете даже очевидные вещи, что например Япония оккупирована. И по конституции ей запрещено иметь свою армию
Про Китай тоже ничего не знаете (и даже мои вялые попытки развенчать стереотипы не помогают) - но советуете ему путь Японии
Но главное не в этом. А в том, что почему-то вы уверены, что лучше китайцев знаете, что им надо выбрать... Вот это парадокс тупика западного мышления, который как раз и приводит к дефициту идей
Тот же Китай многому учится у Запада (в том числе России)
А Запад - у Китая гораздо меньше. И именно из-за этих идеологических догм...
Не позволить вору и мошеннику продолжать купаться в славе и богатстве = разрушить жизнь?
Я лично за это. Как и китайцы, которые почему-на стороне правительства в деле с Фань Бинбин
Хотя и на Западе, особенно в США, неуплата налогов (особенно с заведомо мошенническими схемами) - считается одним из самых злостных преступлений
И сколько бы ни работали полиция и Шерлоки Холмсы - убийства не исчезнут )
Отменить полицию?
Или может количество и уровень защищенности общества то же имеет значение?
Опять же к конкретике - в Китае еще не так давно бытовая коррупция была частым явлением. Сейчас этого практически не встретить. Чтобы гаишники к примеру взял взятку - маловероятно...
И в той же актерской сфере многие заключали фейковые контракты. А после дела Фань Бинбин намного меньше
’Exceptionalism", America Fisrt (Uber Alles) - это цитаты Обамы и Трампа
И пока вопрос, как Запад будет жить без китайского подсоса...
Decoupling пока очень сбоит
Опять же decoupling не Китай затеял, а "мирные" "демократические режимы"
Китайские элиты здесь в достаточно простой позиции. Не они ведут эту агрессирную игру... У них нет идеи создать мир, основанный на своих правилах. Пока они выжидают и пользуются ошибками Запада
Вы ставите в пример националистическую Японию, которая оккупирована США... Совершившую геноциды... называете ее мирной в сравнении с Китаем...
И прочий бред...
Вы кстати в курсе сколько партий была у власти в Японии за 70 лет?
Рост меньше по процентам, потому что экономика огромная. По объему плюсуемого ВВП никто в мире лучше Китая не растет
Сейчас в Китае намного меньше расслоение, чем 10-15 лет назад, намного лучше с технологиями
А торговые войны ведет не Китай ведет - а против него. Равно как Ирак, Ливию и Газу бомбит не Китай. Бомбят как раз "демократические режимы"
Зачем китайцам становиться нацистами и выбирать себе Гитлер-Обам-Трампов, основа которых в пропаганде своей "исключительности" и навязывании миру своих Рейхов и правил, на которых "он основан"?
Китайцы и без этого нормально развиваются. Поставьте себя на их место: страна вырвалась из бедности, расцветает... Зачем им отказываться от работающего велосипеда в сторону демократизации, которая на сегодня не работает без нацистских идей
Если развитие при диктатуре невозможно - значит, в Китае не диктатура... Потому что он развивается. Диктатура по этой логике на Западе - потому что он стагнирует, либо даже хуже...
Шанхай и Шэньчжень богаче и развитее Тайваня
Но и другие провинции, там много где очень неплохо... Сравнивая тот прогресс, с чего Китай начинал - это невероятно
Юань уже номер2 в торговых операцией. А резервная валюта - это специфический монетарный тип экономики. Капитализм уже в чисто монетарном смысле
Китай же делает упор на производство, на некую социальную ориентированность
И не хочет становиться эксплуататором подобно Западу. Надеюсь, и не станет...